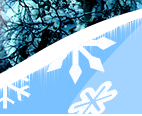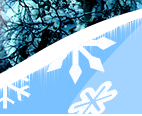Наталья Макаровна Зиновьева
Помнить и любить
Воспоминания о брате мне надо было написать давно, а не двадцать с лишним лет спустя после его смерти. Но не давала прикоснуться к бумаге душевная боль, память о Васе была настолько жива, что и не представлялось говорить о нем в прошедшем времени. Трудно вынести эту боль, которую не лечит время. Но писать надо. Да простит меня читатель за то, что в своих воспоминаниях о брате мне придется говорить и о себе.
Родился Вася 25 июля 1929 года в селе Сростки тогдашнего Старо-Бардинского района. Ныне это село входит в Бийский район. Мать наша — Мария Сергеевна — с 1909 года, а отец — Макар Леонтьевич — с 1912 года. Оба уроженцы Сросток, крестьяне.
26 марта 1933 года отец в возрасте 21 года был арестован Бийским ОПТУ как якобы участник контрреволюционной повстанческой организации и осужден Особой тройкой по Западно-Сибирскому краю 21 апреля 1933 года к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение 28 апреля 1933 года в Барнауле. В 1956 году дело в отношении нашего отца было прекращено, он реабилитирован посмертно.
После того, как «забрали» отца, мама все время ждала прихода тех же людей и с той же целью. Да и в селе-то таким семьям не было ни почета, ни уважения. Жен арестованных называли сибулонками. Я до сих пор не знаю, какой смысл у слова «сибулонка», но, видимо, есть какая-то связь с сибирским лагерем.
Мне запомнилась наша избушка, в которой мы жили, и почему-то старый мешок, куда были уложены нехитрые пожитки. Сверху в этом мешке всегда лежала чугуночка. В этой чугуночке мама варила кашу или затируху (вкрутую замешанное и растертое в крошки тесто), обычно варили ее на молоке. Помню, сварит мама затируху, выложит в чашку, а чугуночку вымоет и снова уложит в мешок, который всегда стоял в сенцах у двери. Жили в страхе и всегда были готовы к ночному стуку и к слову «собирайтесь».
Вот такое стихотворение написала Надежда Алексеевна Ядыкина, бывшая учительница, ныне пенсионерка-общественница нашего села:
По дорогам по скользким,
Под косыми дождями
Гнали наших отцов
От семьи, от родных.
К ним тянулись ручонки
Их детей-малолеток,
Раздавались, как эхо,
Крики жен, матерей.
В чем вина их — не знали,
И от этой загадки
Становилось на сердце
Все больней и больней.
Осудили их скоро,
Разобрали по сорту.
Кому каторга — север,
А кому и расстрел.
Ну а жены и дети
За отцов отвечали:
«Сибулонками» звали,
Унижал, кто хотел.
Все почти полегли там,
В мерзлоте магаданской.
Кто вернулся домой,
Чуть держась на ногах,
до последнего вздоха
Помнил лагеря нары.
до конца с ними жили
Опасенье и страх.
Ах, Россия, Россия,
Велика и красива!
Ты врагов побеждала
Во все времена.
Как могла ты, Россия,
Волю дать черным силам,
Надругаться над честью
Своего мужика?!
Незадолго до войны мама второй раз вышла замуж за холостяка Куксина Павла Николаевича. Это был большой доброты человек. Кстати, Вася эту доброту оценил уже в зрелые годы. А вначале мальчишеская ревность к матери не давала ему покоя, и он выкидывал одну проделку за другой. Очень хотелось ему, чтобы отчим его тронул, в смысле — ударил, выпорол. Вот тогда бы он рассказал матери, и она бы выгнала отчима. Вася был ершист и никак не мог смириться с тем, что у нас появился чужой человек. Он по-детски его игнорировал: мог закурить при нем, а потом, пожелтевший от одной затяжки, отлеживался. Но отчим, к счастью, не отгородился глухой стеной от нас и находил в себе силу и умение налаживать отношение с пасынком.
Павел Николаевич работал заготовителем кож, ездил по селам на лошади и, возвращаясь, всегда привозил нам сладости. Больше всего мне нравились баночки с леденцами. А Вася демонстративно отказывался от подарков, делая вид, что он от него ничего не возьмет, так что обе баночки доставались мне. Но когда мы оставались одни, Вася изображал такую просящую мину, что мне становилось его жаль, и я делилась с ним лакомством.
Шел 1940 год. Как-то мама узнала, что в Бийске есть годичные курсы кройки шитья, и ей очень захотелось научиться шить. Решили родители переехать в город. Мне было все равно, а вот Вася заупрямился, обвинив в этой затее отчима. Но все-таки мы уложили в телегу немудрый багаж, за телегу привязали корову и приехали в Бийск. Поселились там в арендованном на один год домике по Смоленскому переулку,15.
Я пошла учиться во второй класс, Вася — в четвертый, мама — на курсы кройки и шитья, а отчим устроился на кожевенный завод. Место, где мы жили, было очень хорошее. Рядом шумел сосновый бор, куда мы ходили за шишками, ягодой, грибами. С городскими мальчишками Вася сходился нелегко, но игра в ножичек, в чижа увлекала его, даже и меня он научил играть в эти игры. Я думаю, он тренировался со мной для того, чтобы не выглядеть размазней или «деревней» среди городских парнишек.
В первых числах июля 1941 года отчим ушел на фронт. Погиб он в 1942 году. Нам ничего не оставалось, как вернуться обратно в Сростки. В деревню мама ехала вначале одна, чтобы привести в порядок дом, а нас оставила на два дня у дальней родственницы.
К вечеру первого дня мы захотели есть. Тети Маруси (так звали хозяйку) дома не было. На столе стояла кастрюля, Вася заглянул в нее, а там был хлеб. Он захлебнулся от радости и говорит мне: «Здесь беляк и „ордженикидзе" (белый и черный хлеб), давай отрежем». Я говорю: «А если она узнает?» «А мы отопремся», — сказал он и отрезал от белого хлеба два ломтика. Не успели мы эти ломтики поделить, как стукнула калитка. Вася быстро положил хлеб в кастрюлю, а ломтики — за ящик, на котором мы сидели. Вошла тетя Маруся и, заметив на столе крошки, след наш преступления, засуетилась по кухне в поисках того, чем бы нас огреть, но мы уже дали деру на улицу. Тетя Маруся выбежала за калитку со скалкой в руках и ругала нас на чем свет стоит, мы торопливо шли по улице и постоянно оглядывались, я боялась, как бы она за нами не побежала. Вася мне строго сказал: «Не оглядывайся и не гнуси, она не побежит, здесь люди идут».
Мы оказались на Чуйском тракте. Солнце уже было на закате, машины шли редко, и как мы ни поднимали руки, чтобы остановить какую-нибудь, шофера нас как будто не замечали. Совсем стемнело, и Вася предложил остаться до утра в кювете, недалеко от тети Марусиного дома. Утром голодные, продрогшие от утренней росы, мы снова вышли на тракт, какой-то добрый водитель взял нас в кабину и, конечно, начал расспрашивать. Я сейчас не припомню, какие он задавал вопросы, но помню: Вася врал ему несусветно.
Когда мы приехали в Сростки, я спросила у него: «Что ты так врал шоферу?» Он сказал: «А что я должен был рассказывать, как мы хлеб воровали?»
Увидев нас в ранний час, мама ахнула, но она знала, что тетя Маруся никогда не отличалась ни добротой, ни гостеприимством, поэтому все обошлось тихо.
Шла война, и начались для нас тяжелые времена. Голод и холод не покидали наш дом. Огород был маленький. Все было засажено картошкой, кукурузой и овощами. Ели жмых, сою, терли картошку и пекли оладьи-ландорики (тертая картошка с добавлением муки). Но у нас и муки-то не было. Мама шила, вышивала, ткала людям и себе, словом, что-то зарабатывала на картошку, муку, крупу. Меняли, что можно было еще поменять. Помню, последнее, что оставалось, — это нитки-мулине. Вася пошел с ними в Образцовку (6 километров от Сросток) и на саночках привез маленькое ведерко (котелок) уже замерзшей картошки, но мы все равно ее терли и ели.
Выпадали и у нас праздники, когда мы стряпали пельмени. Но это было редко. Любили мы ходить в баню (своей не было) к бабе Дуне, маминой сестре, потому что почти каждую субботу она пекла блины из гречневой муки. Какие же они были подъемные, мягкие! Пока топилась баня, мы уже выведывали: будут ли сегодня блины или нет. Если они уже были готовы, Вася мне наказывал не размываться долго-то, чтобы до прихода взрослых успеть «заснуть», а значит, не ходить домой и поесть блины не только вечером, но и утром следующего дня. Мама каждый раз подходила к печке и будила нас, и каждый раз баба Дуня говорила: «Да ладно, пусть спят». После ухода мамы мы быстро «просыпались». Баба Дуня наливала нам по стакану молока, ставила на стол блины, и мы блаженствовали.
Из домашних животных у нас был кот Васька, кобель Борзя, до жути шалавый пес. Мама, нахваливши его, продала за 5 рублей в соседнее село пасечнику. Нам потом стыдно было с ним встречаться. А вот Васька любил зимой залезать в печку. Однажды мама затопила ее, а Васька оказался там. Мама быстро залила огонь, вытащила его из печки. Внешне он был невредим, если не считать подпаленных усов. Но вскоре мы стали замечать неуверенные его движения, при ходьбе он натыкался на предметы, и поняли, что Васька сжег глаза и ослеп. Но мы любили его, и он слепой прожил у нас еще четыре года.
Была у нас и телочка (в колхозе маме дали как премию). Мы ее вырастили, и корова Райка стала единственной нашей кормилицей. Правда, она круглый год, с перерывом почти в 3 месяца, давала всего по 3 — 4 литра молока в сутки, но и это спасало нас от голода.
В школе зимой мы занимались в стареньких фуфайчонках. Валенки у Васи были подшиты, но эта подшивка часто отлетала, и он перетягивал ее веревочкой. Я же ходила в домотканом платье (мамой вытканном и ею сшитом). Такое платье, если выстираешь, выполоскаешь, можно ставить (не вешая) сушить — стоит, как на манекене. Вася такие рубахи не носил.
Писали мы на старых, пожелтевших от времени, книгах (это были книги отчима) ручками-палочками, выломанными из травяного веника. В мою обязанность входило готовить чернила из сажи, которую я наскребала из печного чувала и разводила горячей водой, а потом долго, долго мешала. Разводили и марганцовку, но она была дефицитом.
Однажды на уроке физики в 7-м классе присутствовал инспектор районо, и учительница вызвала меня отвечать урок. Тему урока я знала хорошо, потому что нас предупредили об инспекторской проверке, а решение задачи записала на толстой книге между строк чернилами из сажи. После ответа учительница меня спрашивает:
«Решила задачу?» — «Решила», — отвечаю я. «Покажи, как ты решила?» Я взяла с парты книгу, открыла, а там остались заметны только надавы от палочки, а вся сажа отпечаталась на переплете. Учительница, увидев мой испуг, говорит: «Ну, все правильно, садись — четыре». Я села и готова была расплакаться от досады: не удались «чернила».
Зимы тогда были холодные, снежные. Бураны сменялись морозами, да такими лютыми — ничто не спасало: ни одеяла на окнах ни тряпье на пороге у двери. Единственной нашей спасительницей была русская печка, которую надо было чем-то топить.
Большинство семей нашего села ходили за березняком на Талицкий остров (это по замерзшей Катуни километра три) поздно вечером. Рубить березняк было строго запрещено — его охранял лесник. И не дай Бог, попадется кто ему! Хлестанет бичом, а уж топор-то отберет обязательно. Наверное, за все военные годы он из этих топорищ не один кубометр на дрова сложил. Маме с Васей как-то удавалось не попадаться леснику. Срубят по березке, взвалят комель на плечо, а хлыст по снегу волокут. Принесут домой, распилят каждую на три части и даже третью часть поднять не могут — так устанут. А, может быть, поэтому, позже, в зрелые годы, Вася любовью к березке-невестушке искупал вину свою.
Помню такой случай. Летнее время, суббота. Мама истопила баню, а свежего веника нет. Поднялись на гору, чтобы наломать веток для веника, подошли с мамой к березке, ее надо было пригнуть, кликнули Васю — а его нет. Вернулись, а он сидит на пригорке, как в последнем кадре «Печек-лавочек», курит и говорит: «Я не могу ломать березу, пойдемте домой, у нас в ограде растет черемуха, с нее и наломаем веток». Мама даже обиделась — шли такую даль, поднимались на гору и — на тебе… «Вася, это же тебе не свинью колоть или курице голову отрубить, черемухой-то не парятся». Пришлось идти в баню со старым веником, мама боялась, вдруг он в баню не пойдет из-за нового веника.
А вот курице голову отрубить он точно не мог. Однажды Вася приехал неожиданно, и мама, зная, что он любит домашнюю лапшу, попросила его отрубить курице голову. Он согласился. Мама поймала курицу, но Вася промахнулся, бросил топор — и бегом домой. А курица бегает по ограде, и разделываться с ней пришлось уже маме. Когда мы вошли в дом, Вася сидел бледный-бледный и просил маму не варить курицу.
В военные суровые годы, особенно в летнее время, мужская работа легла на плечи женщин и подростков. С 11—13-летних спрос был таким же, как и со взрослых. Но маме было нелегко упросить бригадира, чтобы Васю (12-летнего подростка) взяли в колхоз на какие-нибудь работы.
Он любил коней и хотел, чтобы его взяли водовозом, как говорили, «на табачок». Бригадир не соглашался. Мал еще, говорит, ему и ведро воды не поднять, и коня не запрячь.
Вот как об этом случае вспоминала мама: «Я думала, он будет при мне, и я буду спокойна. Поэтому и просила бригадира, обещая ему, что Вася по полведра будет черпать, а коня я его научу запрягать. Бригадир согласился. Вася — радешенек. Начался покос — я опять к бригадиру, он немного нам сродни. „Ермолай, — говорю, возьми Васю копны возить". Ты что, отвечает, какой он копновоз, у него ноги коротки. А кто ему будет лошадь запрягать? „Научу запрягать и распрягать, только возьми". Он видит, что у меня уже глаза заблестели от слез. Ладно, говорит, пусть приходит».
Об этом периоде работы в колхозе Вася написал в своих рассказах «Жатва» и «дядя Ермолай».
Тяжкий труд, который выпал на долю наших мальчишек, не омрачил их детские годы. Они, хотя и рано повзрослели, все равно водили свои игры, озорничали в чужих садах и огородах …
Зимой Вася в школу ходил с холщовой сумкой, в которой вместе с учебниками были бабки. Играли мальчишки после школы на льду замерзшей Катуни. Бывало, забежит домой, где-то за час до прихода мамы с работы, вытряхнет сумку, учебники — в одну сторону, бабки — в другую и, довольный, считает, сколько бабок выиграл. Ну, а я уже в позе: полдня проиграл, ни одного урока не сделал! Он знал, что я буду жаловаться, начинал меня упрашивать, чтобы я маме не говорила про его игру и что я захочу — он все сделает. Козырь оказывался в моих руках.
У нас был деревянный диван в небольшой комнате. Я ему говорила с приподнятой головой и со вздернутым от природы носом: «Прокати меня на горбушке (на спине) десять раз от дивана до кровати». Вася был рад выполнить такую ерундовую для него просьбу. И я с дивана залезала ему на спину, а он чуть ли не бегом, подкидывая меня и взвизгивая, как будто лошадь, даже удлинял расстояния — от стола до дверей.
А однажды я увидела его в кругу друзей с дымящейся папиросой. Как он ни убеждал меня, что эта папироса была не его, а Кольки Быстрова, он дал ему якобы ее подержать — я была неумолима. Вот так и ездила на нем за каждую его провинность…
Позже Вася был мне опорой. Когда умер муж и я осталась одна с двумя пятилетними детьми, он помогал мне материально, и я ему как-то сказала: «Езжу, Вася, на твоей горбушке до сих пор».
Вася с детства был жалостливым. Случалось, разобью я тарелку (а они все были на счету), приходит мама и спрашивает: «Где тарелка?» Не успеваю рта раскрыть, как он опережает меня: «Я ее разбил нечаянно». Он знал, что мне за это попадет, а ему нет, потому что в доме он был мужичок, помощник. Боже, как я ему была благодарна! И не только явные его провинности прощались мною, но я даже делилась кусочком сахара, который мама нам выдавала два раза в неделю.
А как он, еще подросток, переживал по-взрослому за корову Райку! Стояли лютые морозы, а кормить ее нечем. Мама купила воз сена и говорит, что сено плохое, одни дудки. Вася начал в руках мять это сено-дудки и с рук давать его корове. Но мама убедила сына, что Райка сама разжует. А когда мы ждали теленочка, Вася готов был с Райкой ночевать, он гладил ее, жалел…
Книги к нему пришли как-то сразу, они не были его увлечением с детских лет, и он резко сменил бабки на книги. Читал все подряд без разбору, а мама боялась, что он зачитается и «сойдет с ума». Все его школьные учебники были без корочек. Когда мы были дома, он в эти корочки от учебников вкладывал художественную книжку, ставил ее на стол и читал. Мы видели, что у него, например, «География», а через некоторое время он ставил перед собой «Историю». Но однажды я заметила, что у него на корочке «Арифметика», а он ничего не пишет. Заглянула — и, конечно же, художественная книга. На этот раз я сказала маме, потому что боялась, как бы он не «свихнулся».
Брал Вася книги из библиотеки и тайком из школьного шкафа, который стоял в коридоре. Это были тоненькие брошюры о Мичурине, Лысенко. «Происхождение жизни на земле» и много, много других. Читал днем и ночью. Даже умудрялся читать при лунном свете или с жировухой. Наливая во флакончик жира, протягивал веревочку (фитилек) через картофельный пластик, укрывался одеялом с головой и читал. А однажды заснул с этим горящим фитильком и чудом не задохнулся. Но одеяло все-таки прожег.
По соседству с нами жила учительница географии Анна Павловна Тиссаревская, эвакуированная из Ленинграда. Мама однажды поделилась с ней о запойном чтении сына и ее боязни за его здоровье. Учительница пришла к нам домой, поговорила с Васей, написала список книг и посоветовала, как читать, чтобы было не во вред школьным урокам и оставалось время для тех же игр. Или он был таким послушным, или помогло ее искреннее желание помочь Васе, но он изменился и читал уже спокойнее, не прячась, и потом мама даже сама покупала ему книжки.
В зимнее время мы залезали втроем на любимую русскую печку, ставили рядышком лампу. Вася ложился с краю, мама в середине, а я у стенки, и он читал нам. Злился, переживал, когда мы с мамой начинали засыпать, заставлял нас пересказывать прочитанное или сказать, на чем он остановился. Но так как ни та, ни другая ничего не могли ему ответить — плакал.
С наступлением весны и лета наша жизнь заметно менялась. Дров не надо, какой-никакой есть огород, островная, полевая ягоды, а иногда Вася и с рыбалки приплывал с рыбой. В общем, было легче жить.
Раньше Катунь в наших местах была быстрая, широкая, разгульная. Весной ее как будто распирало, и она с шумом, с треском, уставшая от ледяного покрова, грудью выходила наружу, ломая метровой толщины лед. И какая же силища была у реки, когда она выбрасывала на берег огромные льдины, превращая их в нагромождение искрящихся на солнце глыб. Это было прекрасное зрелище! В селе уважительно говорили: «Катунь пошла».
Богата Катунь островами, на которых росли ягоды, грибы, пахучее разнотравье. Острова у нас в селе называли немудрено, смотря чем богат остров: Смородинный, Живишный (Ежевичный), Боярышный, Облепиховый.
У кого была лодка, тем крепко завидовали: у них были ягоды, из которых варили варенья, и грибы, и рыба. Вася очень любил эти острова и особенно увлекался рыбалкой. Часто мальчишки плавали на лодке с Иваном Мазаевым. Сам он — инвалид, но пацанов около него было всегда много. Васю он брал часто с собой. Нередко уплывали с ночевкой. По-моему, у него всегда был праздник, когда он собирался за день до отплытия. Однажды он рассказал мне, как они готовят уху, как он ходит в глубину с неводом, как ложатся спать и как сладко спится под говорок реки. И вздохнул: «Если бы ты хоть раз увидела, знаешь, как бы тебе понравилось!» А я уже готова была с ними плыть, но он спохватился и тут же сказал: «Нет, там девчонке нечего делать, все-таки там страшно».
Мама всегда была против рыбалки, она боялась эту своенравную реку, и мы с ней поздно вечером отправлялись на берег. Она кричала: «Вася-а-а», и мне казалось, что этот зов был слышен на Талицкой стороне. Иногда он откликался свистом (кстати сказать, он хорошо свистел, мог любую мелодию передать свистом).
Но иногда и слышит, а откликнуться не может — рыбу боится спугнуть. Для нас было большой радостью, когда мы слышали скрип уключин и всплески весел. Значит, плывут…
Окончив 7 классов, Вася и еще три его сверстника поехали учиться в Бийский автомобильный техникум. Мама в то время работала техничкой (уборщицей) и истопником в райисполкоме. Чтобы вовремя разжечь сырые дрова и натопить к утру помещение, мы уходили из дома в полночь. В кабинете председателя мама зажигала керосиновую лампу «молния», предварительно задернув черные, плотные шторы на окнах. Я садилась за стол, открывала художественную книгу или бралась за невыученный урок. От ярко горящей лампы мне становилось тепло, и я засыпала за этим столом.
Весной мама выучилась на парикмахера, и нам как-то стало полегче жить. И ночи дома, и на булку хлеба имела возможность что-то заработать, кроме зарплаты, и Васе помочь.
Приезжая домой на каникулы или на выходной день, он успевал и на вечерку сходить с гармошкой, и влюбиться, и с соперником отношения выяснить, и что-то писал, но читать написанное никому не давал. А однажды он попросил меня отправить пакет в журнал «Затейник». На обратном адресе была написала фамилия — «Шукшин». В следующий приезд я его спросила, почему он написал эту фамилию, а не «Попов». Он ответил, что его как Попова знают все, а вот о «Шукшине» только могут догадаться. Дело в том, что мы с Васей носили мамину девичью фамилию (Попова), потому что отец был репрессирован, и мама боялась оставлять нас на фамилии отца. И только при получении паспортов мы стали Шукшины.
Но из Москвы он ответа так и не получил. И вот почему. У нас в селе был Шукшин Василий Максимович, он работал в колхозе и однажды поделился с работником райкома партии, что получает письма из Москвы: «Вроде как мне, говорит он, — (Шукшину Вас. Мак.), а распечатываю — не мне, но бумага хорошая, папиросная». На вопрос: «Что ты делал с этими письмами?» — отвечал: «Курил». А вот как рассказывала об этом мама: «Вызывают меня седня в райком и расспрашивают, как мы живем. Ну, думаю, кто-нибудь увидел, что я несла полешко дров на разжижку за пазухой домой, и донес, или за бритье с одеколоном в ведомость не записала. Потом спрашивают, а где у тебя сын? (В это время Вася уже уехал из дома.) А у меня язык отнялся, на глазах слезы, что-то случилось, думаю, сообчили. Но они меня успокоили, мол, ничего особенного не произошло, письма ему шли из Москвы, а получал другой, и все рассказали».
Еще на втором курсе техникума у Васи не сложились отношения с учительницей английского языка, и на третьем он решил оставить его. Мама переживала, а он ей говорил: «Я все равно по этой специальности работать не буду, если даже закончу техникум». И сказал нам, что поедет в Москву, потому что посылал рассказы в журнал «Затейник» и ему написали, чтобы он приехал в редакцию. Это был обман. Мне тоже было жалко с ним расставаться, мы втроем плакали, а он, шмыгая носом, нас уговаривал. Вроде, уговорил, но денег нет, да он и не рассчитывал на большие деньги. Мама решилась продать корову, но Вася не соглашался. Она начала его уговаривать, мол, купим теленочка и вырастим его, а Райка все равно мало молока дает.
Продали все-таки Райку. Мама уложила в деревянный чемоданчик все необходимое для Васи, он сверху положил книги, тетради, и мы проводили его в никуда. Мама сильно переживала за Васю, а он уехал, и два месяца от него не было ни одного письма. Извелась мама, ложилась спать со вздохами, а то и со слезами и вставала с надеждой на весточку от него. Жаль мне ее было, но помочь я была не в силах.
Однажды я пришла к тете Марусе Александровой. Она сидела за швейной машинкой, что-то шила и говорит: «От Витьки (от сына) получила письмо, почитай-ка мне еще раз». Я прочитала коротенькое письмо. Он хорошо устроился, но долго не писал потому, что общежития не мог получить, и в конце: до свидания, твой сын, дата и адрес: г. Черемхово. Я обрадовалась. Это письмо могло, наверное, походить и на письмо от Васи, поэтому и думала я о том только, как его умыкнуть, принести маме на работу, обрадовать ее, как-то успокоить. Стащить-то сумела, а конверт оставила у тети Маруси. Придя домой и, зная, что это письмо из Черемхово, я катушку из-под ниток, ножом вырезала «Черемхово» на этом тюрючке и, помокнув в чернила, пришлепнула на конверте свою «печать». Положила в конверт Витькино письмо, заклеила, постаралась (по почерку) написать адрес — и бегом к маме на работу. А у нее руки затряслись, слезы на глазах, взяла у меня письмо, читает конверт я ей стараюсь не показывать, и мое сердечушко трепыхает: ну, думаю, час она догадается. Где это, говорит, город Черемхово? «Под Москвой», — отвечаю. Позже узнала, что он в Иркутской области.
Примерно через месяц получаем от Васи письмо. Какая это была радость особенно для меня. Маму-то я обманула, а себя-то нет. В письме он просит ответа не писать, потому что он должен получить другое общежитие. А на конверте четко значилось: «Калуга».
Конечно, для 17—18-летнего парня это был опасный, неизвестный путь. Мальчишка, который особо не отличался от своих сверстников, сделал прыжок и благодаря добрым людям, на которых, как он сам говорил, ему везло, благодаря своему трудолюбию, упорству, целеустремленности и начитанности и вышел на верную дорогу.
В самом маленьком моем детстве я больше общалась с мальчишками, чем с девчонками. Как-то зимой шла из школы и на перекрестке вижу кучу-малу. Это когда один лежит внизу, а на него падают несколько пацанов. Подхожу ближе и вижу — на самом низу Вася, а на нем четыре человека. Я с разбегу (вместо того, чтобы их растолкать) с сумкой села на четвертого, тот шарахнулся от меня, я оказалась на третьем и так далее. И вот я уже сижу на Васе, потом упала, и лежим вдвоем, он отдышаться не может, а мне смешно.
Да, было и смешно, и горько, и голодно, и холодно, и пережито не с кучу-малу, а гораздо больше, но мы не думали, хотя и знали о слабом здоровье Васи, что нас постигнет такое горе. Второй раз он ушел от нас, но теперь уже совсем, в никуда.
Тропинка, которую он со скрежетом в зубах, со сжатыми кулаками, с ходившими желваками на лице прокладывал самостоятельно, вывела его на широкую, ухабистую, с крутыми поворотами, но все-таки верную дорогу, которая на самой круче оборвалась.
Каждый год в Сростках, на горе Пикет, собираются тысячи людей из разных уголков России, и не только России, чтобы поклониться той земле, где родился и вырос человек, который всю жизнь искал правду, который не мог мириться с равнодушием, черствостью, ложью, который с обостренным чувством справедливости просил людей чуточку быть добрее.
И я благодарю людей за то, что помнят и чтят они моего брата, любят его героев, которые живут рядом с нами, для которых нравственность есть Правда.
|